Пять честных историй про опыт психотерапии
- 28.08.2019
- 8465
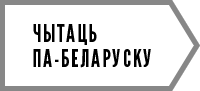 Что такое психотерапия, зачем она существует и когда нужно в нее идти? Предлагаем исследовать чужой опыт, чтобы не стесняться просить помощи и разговаривать с близкими, если эта самая помощь нужна им.
Что такое психотерапия, зачем она существует и когда нужно в нее идти? Предлагаем исследовать чужой опыт, чтобы не стесняться просить помощи и разговаривать с близкими, если эта самая помощь нужна им.

Катя Светлостражева
22 года, сценаристка, IT
«Сейчас я не могу рассказать свою историю»
Когда я была месяц социально изолирована по рабочим и учебным причинам, то все, о чем я думала, – это самоубийство. Ты лежишь, просыпаешься, засыпаешь – и думаешь об одном: как это сделать. Для меня до сих пор то состояние – мерило моего личного дна. И нежелание возвращаться в эту ситуацию подтолкнуло меня что-то делать.
Я пришла в терапию в попытке разобраться в отношениях с мамой. Дискуссия по каким-то вопросам превращалась в ссоры, которые заканчиваются взаимным психологическим уничтожением. Сейчас у меня основной запрос – избавиться от тревожности, быть в гармонии с собой.
Возможностью прийти в терапию для меня стала открытая лекция о групповой терапии. Мне было очень стремно звонить, записываться лично, а так можно было окунуться во все с головой без предварительных ласк. Та сессия состояла из двух частей: полтора часа на теорию и полтора часа на проверить, что такое групповая терапия на практике. Я разрыдалась на истории о родителях другой девушки, и терапевтка сказала: «Нам с вами есть, о чем поговорить».
Терапевт никогда не узнает, о чем ты молчишь, пока ты не скажешь. Я бы не рассказала так сразу в индивидуальной терапии о проблемах, о которых я никогда не говорила до этого. А когда в групповой терапии другой человек начинает говорить о том, что близко, ты доходишь до того состояния, когда уже не можешь молчать.
«Я была на свидании и, когда зашла речь, сказала парню, что я в психотерапии. Он неоднозначно отреагировал: "Ты псих?”»
У меня были проблемы с отцом – и я никогда и никому об этом не говорила, потому что мне казалось это безумно стыдным. Но, когда я смогла об этом рассказать в группе и проговорить несколько раз, мне стало легче. Сейчас я не могу рассказать свою историю: да, мне все еще стыдно. Но я готова налаживать отношения с человеком, с которым я принципиально не хотела общаться пять лет. Я прожила обиду, которая у меня есть, и могу двигаться дальше.
Через год психотерапии я чувствую себя сильнее и не боюсь признавать, что мне может быть больно. Мои коллеги на работе, друзья, мама знают, что я в терапии, и мне не сложно говорить об этом.
Мне кажется важным говорить о травмах, если я обращаю внимание на примере себя на какую-то социальную проблему. Тебе говорят: «Такого не бывает» – и ты такой: «Добрый вечер! Хочешь, я тебе кое-что расскажу?» Я была на свидании и, когда зашла речь, сказала парню, что я в психотерапии. Он неоднозначно отреагировал: «Ты псих?» – «Нет!» – «А что у тебя не так?». Я объясняю ему – и вижу, что он не догоняет. Про терапию, про травмы, про свое состояние важно рассказывать, чтобы люди начали понимать.
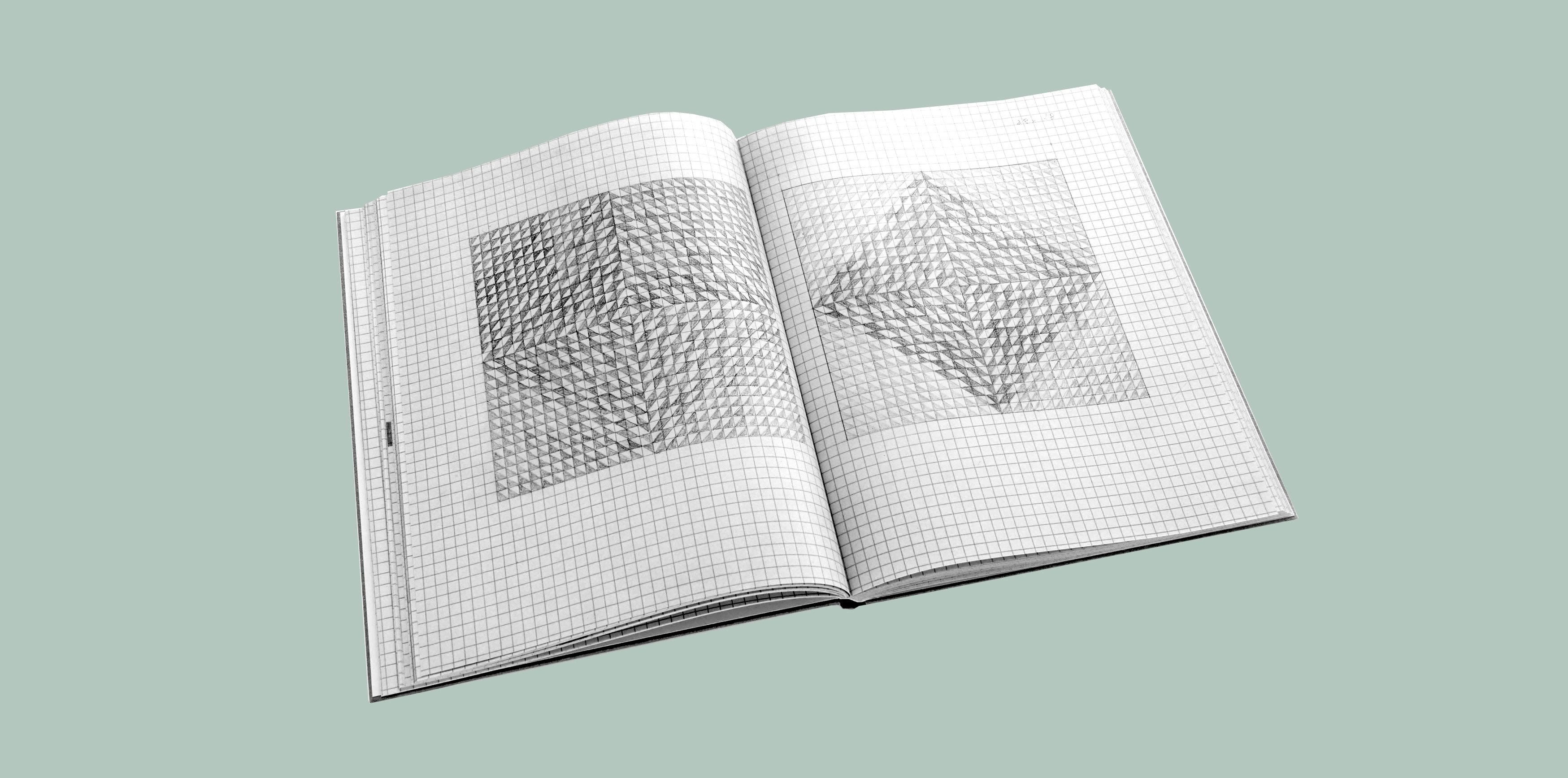

Женя Велько
23 года, музыкант, журналист, активист
«Я был в шоке, сколько травматичных штук я не помнил»
Пойти к терапевту все еще означает «пойти к шарлатану, который будет с тобой болтать за жизнь и драть с тебя деньги». Это то, что мне говорили изо всех щелей. «Можно к подружке прийти проговориться» – аргумент моего окружения, и сейчас я пытаюсь рассказывать людям, что подружка не имеет ничего общего с терапией, а терапевтический процесс не имеет ничего общего с «поболтать за жизнь».
Я пришел в терапию с тем, чтобы начать что-то делать со своей жизнью. Shit happens – а я ничего не делал. Физически я был очень слабым, очень мало общался с близкими людьми, начинал рыдать или злиться от всего, что происходило вокруг меня. И перманентное недомогание, как будто ты все время болеешь, но непонятно чем. Это было то, что терапевтка объяснила мне как депрессию. Как выяснилось потом, у меня были дереализация и деперсонализация – я не понимал, что происходит вокруг меня в принципе: я путал места, забывал информацию, забывал лица, не узнавал себя в зеркале.
Около полугода я был в краткосрочной терапии, потом был перерыв, пока я не стал более финансово стабилен и не смог вернуться. Сейчас я около года в терапии, но у другой терапевтки. Причины возвращения были те же самые: я опять перестал вывозить жизнь полностью. Несколько месяцев работы на новом месте я каждый день ходил в туалет, чтобы тошнить, и жто было исключительно на нервной почве, потому что проблем с желудком у меня нет. Я перестал концентрироваться на работе: мне указывали, что я работаю плохо, мало, некачественно. Мне снова нужно было что-то делать со своей жизнью, чтобы просто поддерживать свое существование.
В выборе терапевтки для меня решающими была ценовая категория и ее опыт работы с транс*людьми. Мне приходилось проходить моменты, где я не был согласен с мнением своей терапевтки относительно гендера – и я доносил свою точку зрения. Cейчас мы гораздо лучше слышим друг друга.
«Я не понимал, что происходит вокруг меня в принципе: я путал места, забывал любую информацию, путал лица, не узнавал себя в зеркале»
Гештальт-терапия, в которой я был полгода, ориентировалась на мои текущие потребности: вот я пришел с аффектом, давайте разгребать его. Когда я пришел в психоанализ ко второй терапевтке, она сразу предупредила меня, что это медленная терапия.
Есть стереотип, что в психоанализе все про сиськи-письки. Когда человек слышит термин «фаллическая женщина», он думает о письках, но это никак не связано с письками – это связано с глубинными механизмами, которые завязаны на ощущении феминного и маскулинного, ролевых моделях, материнском и отцовском комплексах. Психоанализ очень много обращается к семье, потому что большая часть травматических событий происходит в юном возрасте.
Психоанализ – это про ниточки, которые ты протягиваешь от одного воспоминания к другому. Спустя полгода у меня начала вырисовываться картина совершенно другого детства! Я был в шоке, сколько травматичных штук я не помнил. Психоанализ – это про то, чтобы становиться взрослее, прорабатывать то, что было детским, и понимать, каким образом жизнь работает у зрелых людей.
У нас есть крайности: либо у тебя тяжелые психические заболевания, с которыми ты уже не можешь функционировать в повседневной жизни, либо нет у тебя никаких проблем и ты выпендриваешься. Промежуточного нет: ты перескакиваешь сразу из первой категории во вторую. И, чтобы не перескакивать, нужно чекать эти промежуточные состояния. Важно же не столько то, что происходит вовне, сколько то, какой оно отклик в вас вызывает: и смерть попугайчика, и Холокост. Если ты из-за ситуации, которая не значительна для других, впадаешь в истерику, то это важно для тебя, это надо проговаривать.


Nollaing Lou
24 года, креативная сфера
«В моей поликлинике не знали про кабинет психотерапевта»
Мо_я партнер_ка с опытом продолжительной психотерапии стал_а часто говорить, что и мне нужно на терапию. Мои постоянные высказывания о том, что я ничтожество и мне следовало бы умереть, – вполне себе повод.
Иногда я думаю, что мне не нужна психотерапия, что я занимаю место, трачу чье-то время и кому-то живется хуже, чем мне, а я просто притворяюсь. Так и работает депрессивное мышление, которое часто не позволяет людям дойти до специалисто_к. Но у меня есть внешняя поддержка в лице партнер_ки и надежда, что все может получиться и я узнаю, как жить без постоянных сомнений и мыслей о смерти.
За пять лет я обращал_ась за помощью четыре раза к разным специалисткам. Каждое обращение было об одном: мне грустно, ничего не хочется, ничего не радует. Все четыре раза были саботированы мной же, пока не настал пятый, когда я был_а в таком состоянии, что мне предложили лечь в диспансер.
Мне подобрали медикаментозное лечение, которое позволило сформулировать запросы и сформировать внутреннюю мотивацию ходить на терапию. Тут важно понимать, что лекарства используются для снятия симптомов, чтобы у человека появился ресурс прийти к психотерапевту и работать.
Изначально мой запрос был «сделайте что-нибудь, чтобы не было так мучительно грустно». Сейчас мои запросы связаны с принятием тревоги и нахождением способов функционировать с ней; выстраиванием адекватной самооценки.
В терапии с нынешней психотерапевткой я полгода. Но медикаментозная терапия началась раньше и длилась дольше. Сейчас я прекращаю принимать лекарства, но поддержка, которую они давали, для меня важна как для функционирования, так и для анализа. Например, мои лекарства снимали часть социальной тревоги. Во-первых, это дает понимание, чего я хочу добиться психотерапией в отсутствие лекарств. Во-вторых, сравнивая свое поведение в похожих ситуациях, можно понять, что нужно скорректировать или чему научиться. В-третьих, это само по себе дает терапевтический эффект, так как голова накапливает положительный опыт взаимодействия с людьми.
«О своем состоянии рассказываю в зависимости от меры его влияния на мою функциональность, а также для создания комфортных для себя условий во взаимодействии с людьми»
Первые два раза я обращал_ась к частным специалисткам по рекомендации близких. Последующие разы – приходил_а в государственные учреждения и сейчас работаю с терапевткой в поликлинике.
Обращение к частным специалист_кам для меня связано с финансовыми возможностями. Я учил_ась на платном отделении, и для меня было проблематично платить 20 евро за сеанс и 20 евро за прописанные лекарства.
В регистратуре моей поликлиники даже не знали о том, что у них есть кабинет психотерапевта. К тому же, чтобы попасть к психологу в поликлинике, необходимо все равно прийти на первичный прием к врачу-психиатру, где заводится карточка, что может испугать.
Для квир-человека и феминистки в Беларуси есть сложность с полной открытостью. Все психологи и психотерапевты пишут, с какими проблемами работают, но никто не пишет, что он_а ксенофоб_ка или считает, что предназначение женщины – быть матерью. Все это обнаруживается во время сессий.
К счастью, моя мама понимала необходимость психологической помощи в кризисные для меня моменты в детстве – меня никогда не пугала опция похода к психологу или терапевту и не удивляло, если кто-то за такой помощью обращается. Но от других людей (в небольшом количестве) приходилось слышать, что психологическая, а тем более психотерапевтическая помощь, – это для людей с «явными расстройствами» и диагнозами.
О своих состояниях рассказываю в зависимости от меры их влияния на мою функциональность, а также для создания комфортных для себя условий во взаимодействии с людьми. С одной стороны, это дает дополнительную информацию обо мне и о причинах моего поведения, с другой, у людей появляется понимание, что люди с какими-либо ментальными особенностями – рядом с ними.


Артём Авдонин
21 год, студент
«Психотерапия – один из способов облегчить жизнь»
Примерно три года назад на меня было совершено нападение – и у меня начались панические атаки, связанные с этим местом. Год назад я решил пойти к неврологу, она спросила о конкретных симптомах. Я начал говорить, на что получил: «Тут уже идет психологическая часть – нужна помощь психотерапевта».
Я пошел в обычную государственную поликлинику: если бы я пошел к частнику, и мне не понравилось, то в первую очередь я жалел бы о потраченных деньгах. Учатся они все равно одинаково – и частники, и бюджетники.
Если у меня были какие-то жалобы, то мы разбирали мое состояние конкретно сейчас. Если их не было, я мог рассказывать что угодно, о чем считаю нужным говорить. Я вырос в не очень благоприятной среде, поэтому мне важно говорить об этом.
Когда я пошел в терапию, я начал читать научпоп по психотерапии, профессиональную литературу. Я начал разбираться в этом, воспринимать как часть медицины и психологии – как науку. Нельзя отрицать, что часть мозга, которая отвечает за эмоции, должна правильно функционировать.
«Чувак, который режет себе руки, чтобы заглушить эмоциональную боль, говорит: "У меня не так много проблем, чтобы ходить в психотерапию”»
Иногда невозможно справиться абсолютно со всем, что происходит в твоей жизни, нужно кого-нибудь подключать – и это абсолютно нормально. Это как думать: «Блин, раньше же люди нормально рожали в поле». Но общество развивается – и появляются новые способы жить. Психотерапия – один из способов облегчить людям жизнь. Я считаю, что без психотерапии мне бы было сложнее: я бы не мог справляться так, как я справляюсь сейчас.
Проблема моего окружения в том, что оно думает: терапия – это когда все «совсем» плохо. Чувак, который режет себе руки, чтобы заглушить эмоциональную боль, говорит: «У меня не так много проблем, чтобы ходить в психотерапию». Или чувак после приступов истерики говорит: «Да у меня нет проблем, я же нормальный!» Люди немного не понимают, когда надо идти к психотерапевту. Я пишу в социальных сетях о терапии для того, чтобы он понимали, что это не так страшно.
Когда я заболел и пошел в доврачебный кабинет в студенческую поликлинику за справкой, женщина за столом увидела в карточке запись от невролога и психотерапевта: «Вы что, от армии косите? Вам же потом права не дадут!» Она мне минут десять капала на мозги – это было отвратительно. Я сидел с температурой и больным горлом – и ждал, когда это кончится.
У меня действительно была боязнь, что существует какой-то учет в психдиспансере: один звонок – и у тебя будут проблемы с работкой, с учебой. И что-нибудь в стиле: «Смотри, это псих, доча, держись от него подальше». Но сейчас я понимаю, что нет ничего плохого в том, чтобы признавать свои проблемы и разбираться в них.


Мария Барановская
17 лет, активистка
«Хотела видеть рядом взрослого, который будет меня беречь»
У меня была булимия, компульсивное переедание. Началось это в раннем детстве – лет в восемь. А к четырнадцати я вызывала рвоту, серьезно переедала и получила проблемы с организмом в целом. Я всегда знала, что такое расстройство пищевого поведения, потому что у нас много об этом говорят по ТВ. Но я не могла соотнести с этими проблемами себя.
Я рассказала своему учителю в воскресной церковной школе про то, что у меня, наверное, булимия. Оказалось, что его жена работает психологом, и он предложил с ней связаться. Мы созванивались, а не встречались лично. И она делала большой акцент на том, что я ем, с кем я ем, как я ем. Мне не зашло – и звонить я перестала.
Второй мой опыт был в шестнадцать: я попросила свою бабушку, которая работает в системе здравоохранения, чтобы она нашла мне психотерапевта. Подавалось это все моей бабушкой, как то, что я хочу разобраться в себе, а не как то, что у меня реально психическое расстройство, которое придется долго лечить. Все думали, что после второго-третьего сеанса я «разберусь в себе». На первом же сеансе, когда я рассказала, что со мной, психотерапевтка сказала: «Пока бабушка тут, заключаем контракт». И на год я оказалась защищена бумажкой, что два раза в неделю должна посещать психотерапевта.
В терапии я хотела человеческой поддержки: чтобы мне банально сказали: «Все хорошо» – и объяснили, что со мной происходит. Я хотела видеть рядом с собой взрослого человека, который просто будет меня оберегать и любить так, как подростка должны любить родители.
Долгое время я думала, что у меня в семье все норм. Также я думала, что хотеть похудеть в детском возрасте – это норм. А потом я наткнулась на группу, в которой сидела моя коллега, – «Токсичные родители». Я стала читать чужие истории, тематические посты и понимать, что это мне близко: эту девочку бьют – и меня тоже били в детстве.
Я и до психотерапии поняла, что мои родители токсичны, но не могла это пропустить через себя. А когда я стала пропускать это через себя на терапии, то стала много злиться. И я понимала: так надо. Моим родителям это не нравилось и они говорили, что я стала более зло к ним относиться: они считали, что психотерапевт настраивает меня против них.
«Мама сама решила сходить к психологу. Только он оказался не психологом, а жизненным коучем и “решил " все ее проблемы за четыре сеанса»
Раньше я не выражала злость – и она ушла в мое расстройство пищевого поведения. У людей с таким расстройством нет понимания, что такое чувства и какие он бывают. Допустим, у меня спрашивают: «Что ты чувствуешь?». «Мне некомфортно», – это все, что я могла сказать. На терапии передо мной положили список с чувствами, и я полчаса искала в списке слова, которые бы описывали, что я чувствую.
После терапии я стала понимать про себя, про других людей много вещей. Моя мама, например, по психологическому возрасту младше, чем я. Ей нужна мама в лице собственных детей. Потому что со своей матерью она отношения не выстроила. А я не хочу быть мамой для своей мамы. Но мы так живем.
Она сама решила сходить к психологу. Только он оказался не психологом, а жизненным коучем и «решил» все ее проблемы за четыре сеанса. Мама, имея этот опыт, посмотрела на мою семимесячную на тот момент терапию, где со мной радикально ничего не улучшалось долгое время, и решила, что мой психотерапевт какой-то херовый.
У меня было четыре сеанса психотерапии с мамой. После третьей сессии моя психотерапевтка сказала: «Скорее всего, диалог между вами невозможен, просто знай это». У нас была тяжелая сессия, мы пытались друг друга понять, я пыталась войти в ее эмоции, понять ее мотивы, а она мои – нет. Но мы все равно приблизились друг к другу – и нам стало лучше.
За десять месяцев терапии я стала осознанней и стала меньше напрягаться по поводу того, кто что думает и как: это моя жизнь и она у меня одна. Я благодарна своему расстройству психики за то, что я пошла к психотерапевту. Если бы этого не было, то скорее всего я бы жила как хорошая девочка, которая хорошо учится, ездит с родителями на отдых, думает, что у нее все хорошо, идет в профессию, которую она знает и не любит, – и не испытывает кучу чувств.